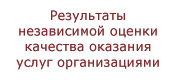Иван Комаров: Мышкин ничего не боится. И не врет. Поэтому и нужен нам

18 мая на Большой сцене театра состоится премьера спектакля «Идиот» по роману Федора Достоевского. Постановку его осуществляет режиссер Иван Комаров, чья сценическая версия «Анны Карениной» вызвала и продолжает вызывать немало споров и столкновение самых разных мнений. У спектакля есть свои противники, и есть свои горячие поклонники. Нам эта ситуация кажется нормальной, потому что мы изучали историю искусств и знаем, что подобная реакция всегда сопутствует появлению яркого непривычного талантливого произведения.
Очень надеемся, что разговор с Иваном Комаровым, состоявшийся за три недели до премьеры «Идиота», заинтересует наших зрителей, поможет им ближе познакомиться с режиссером и замыслом его молодой постановочной команды, в которую входят сценограф Ольга Кузнецова, композитор Ян Кузьмичев и художник по свету Максим Бирюков.
-- Иван, в предстоящей премьере «Идиота» вы будете использовать камеры. Что, с вашей точки зрения, экран, на который проецируется изображение крупного плана артиста, принес в театр? Почему все так увлеклись этим приемом? Что он дает?
-- Как только появилось и стало развиваться кино, Мейерхольд с Эйзенштейном буквально вцепились в эту идею. Думаю, что Мейерхольд, будь у него такая техническая возможность, обязательно использовал бы этот прием. Ответ на вопрос, наверное, банален. Он – про восприятие. Ведь современный зритель гораздо чаще смотрит сериалы и фильмы, чем ходит в театр. Он привык видеть крупный и средний план происходящего. А театр дает нам, прежде всего, общий план. Конечно, за счет света, звука, мизансценирования и построения спектакля постановочная команда может управлять вниманием зрителя, «смонтировать» свою историю. Но этот «монтаж» будет все равно немножко условен. А использование камеры во время спектакля помогает работать сразу с несколькими планами, пересобирать историю, которую мы рассказываем, более точно, расставлять необходимые акценты. И, конечно, присутствие камеры позволяет артисту быть более правдивым и подробным. Он в прямом смысле слова находится под увеличительным стеклом. И, если соврет, то соврет очевидно для всех. Камера влияет на способ его существования на сцене. На недавнем прогоне «Анны Карениной» я думал о том, как бы мне хотелось в определенные моменты происходящего разглядеть глаза артистов. Но в этом спектакле такой возможности нет. Там мы используем крупные мазки. В видеопроекции я наигрался в свое время, мне стало скучно с ними. А с камерой я работал давно, потом ее отпустил, потому что много кто, действительно, ее использует. В Достоевском мне хочется к ней вернуться и пристальнее разглядеть его героев.
-- Но ведь присутствие камеры усложняет восприятие зрителя. Общий и крупный план сосуществуют одновременно. И куда мне, бедному, смотреть? Тут многое зависит от того, куда глаз упал в каждый момент. Восприятие становится произвольным. Управлять вниманием режиссеру в таком случае гораздо сложнее.
-- Задача управления зрительским вниманием мне очень интересна. Она у меня до конца пока не получается, не получается в том объеме, в котором я себе ее изначально, в голове, представляю. Как сделать это управление не насильственным, и при этом не пропустить то, что важно? Мы раньше с композитором и саунд-дизайнером Яном Кузьмичевым договаривались, что делаем все акценты явными, нарочитыми даже. А сейчас стараемся от этого отказываться. Чтобы не давить на восприятие зрителя и при этом сохранять его внимание. Это сложный вопрос. Есть и другой подход. Он дает возможность зрителю собирать свою историю из обрывков того, что ему предлагают. Это тоже интересно. Но в Достоевском мне хочется собрать вместе с артистами единую, нашу общую историю. Когда общую историю собирают и ведут артисты, – вот это вершина.
-- Давайте проговорим важное: вы перенесли время действия романа «Идиот» в конкретный 1999 год. Почему вы так решили?
-- Это моя давняя идея дилогии: 1998 год – год дефолта и «черной пятницы» – это «Преступление и наказание» и 1999-й – год неизвестности перед миллениумом и цифрой 2000, перед очередным ожиданием «конца света» – «Идиот». Это рождалось ассоциативно, как и намерение перенести время действия романов Достоевского. Режиссер Юрий Погребничко любит повторять, что театр – это то, что я вижу и помню. Я воспринимаю его высказывание буквально. Я немного застал 90-е, но мы исследуем это время через кинематограф, музыку и изобразительные искусства того времени, не погружаясь в его бытовые или политические подробности. Два «конца света» в одном – искусственный интеллект, восстание машин и ядерное оружие, способное уничтожить жизнь на земле. Художественный вымысел позволяет взглянуть на эти предчувствия отстранённо, а Достоевский – напротив, достаточно безжалостен и к героям своим, и ко времени, в котором живет.
-- Если я вас правильно понимаю, то для того, чтобы рассказать историю Мышкина, вам нужно погрузить героев романа не в абстрактное сегодня, а в некое предельное особое экстремальное время, которое определяло бы их внутреннее самочувствие.
-- Да, именно так. В кино это называется research. Необходимо определить, что именно мы исследуем. Театр требует обострения обстоятельств. Как в «Меланхолии» Ларса фон Триера – планета, грозящая людям гибелью, уже приближается, и он рассказывает про то, кто и как к этому относится. Беспокоят ли нас обстоятельства только малого жизненного круга, мы не замечаем большого? А, может, мы воспринимаем приближение катастрофы как неизбежность и избавление от проблем, на которые махнули рукой? О приближении Апокалипсиса говорит в романе Настасья Филипповна. Так что мы идем за автором. Достоевский внимательно читал газетную криминальную хронику, отмечал увеличение преступности и считал это, помимо прочего, свидетельством человеческой усталости и безразличия к жизни.
-- Волны интереса театров к тем или иным классическим текстам бывают связаны с тем, что они внезапно с очевидностью обнаруживают соответствие сегодняшнему времени, позволяют сказать о чем-то важном именно сейчас. В этом смысле ваше желание обратиться к «Идиоту» у меня сразу вызвало вопрос, потому что я вообще не вижу вокруг и тени князя Мышкина. Не то чтобы пальцем на него показать не могу, но почувствовать хоть в ком-то наличие этого мира внутри. Он есть, по-вашему?
-- Но у автора ведь Мышкин тоже такой один. Сначала Достоевский вообще называет его Князь Христос, потом от этого отказывается. Отдельные черты Князя мы можем найти в произведениях многих лидеров мирового искусства, в самых разных жанрах. У Тарковского, например. Как сказал один наш артист на репетиции, «мы все хотим стремиться к Мышкину». Я тоже недавно, благодаря этой работе, совершил хороший поступок. Надо было сделать выбор, и я задумался, а как бы поступил Мышкин? Понял и поступил так, как поступил бы он. Достоевский ведь тоже писал роман о нашей потребности в таком человеке. Чувствовал её. Всё остальное – уже философия.
-- Философствовать мы не будем?
-- Нет. Пусть у каждого остается возможность думать о своем Мышкине.
-- Но у вас же есть собственное представление об этом персонаже.
-- Недавно мы разговаривали с Сашей Островным, который репетирует Мышкина, об этом герое как о человеке, и я сказал, что мне бы хотелось, как можно больше «приземлить» его, то есть сделать ближе к нам, более реактивным и беспокойным внутренне. Я думаю о фотографе Дмитрии Маркове, который недавно ушел. В том, как он жил, что делал, кому помогал, как боролся с болезнью, с зависимостью – тоже немало от Мышкина. Мне совсем бы не хотелось говорить о полубоге или идиоте. Ведь речь идет о том, как ты смотришь на мир, как воспринимаешь людей, чего ты хочешь этому миру и от этого мира. У Достоевского было движение в восприятии образа от Князя Христа к Дон Кихоту – человеку, который сражается с ветряными мельницами. Все сюжетные линии романа запущены до появления Мышкина. Что меняет его присутствие? Ганя Иволгин спрашивает: «Зачем ты приехал?» Его приезд отдаляет и усугубляет обстоятельства жизни действующих лиц романа. Спрашиваешь себя, а где же свет? Заглядываешь в каждый описанный автором дом, в каждую комнату, а там, куда ни посмотри, ищешь этот свет и не можешь найти. Заигрались люди. Но Мышкин, как МакМерфи у Кена Кизи в «Пролетая над гнездом кукушки», хотя бы попробовал. В нем жила надежда. Он же честно хотел всем помочь.
-- Да. Как говорится, «затея не удалась, за попытку – спасибо» И все же: что вас ведет тогда? Вы же жизнь свою в поиске этого света проводите, а он все не находится.
-- Мы с вами встречаемся в тот момент, когда меня ведет композиция, которую надо собрать, и кубики, которые нужно правильно расставить, чтобы рассказать историю. Мне долго нравилось работать с современной драматургией. Не только потому, что ты можешь напрямую пообщаться с авторами. Но и потому что мне хотелось доказать, что то, что написано сегодня, очень важно, что оно имеет особую ценность, не меньшую на данный момент, чем Толстой или Достоевский. А потом появилась потребность диалога с большими авторами, как с Учителями. Пусть это пафосно звучит. Мне не хватает взрослого – того, с кем можно поспорить, помолчать, поплакать, просто поговорить. С Чеховым, Толстым или Достоевским мне очень интересно проводить время, соприкасаться с ними, исследовать их миры, погружаться в них, но с позиций сегодняшнего времени. Такой вот период. И еще мне очень нравится работать с контекстом. Автор – это контекст: театральный, визуальный, литературный, научный – очень большой контекст. А если это крупное произведение, как «Анна Каренина» или «Идиот», ты можешь рассчитывать, что зрители с ним знакомы, что они, во всяком случае, знают, что приехал из-за границы Лев Николаевич Мышкин и в итоге окончательно сошел с ума. Как и почему это происходит – вот, что интересно, что будит твою фантазию, фантазию актеров и команды, которая работает. На это уходит жизнь, вы правы, и ты хочешь ее с пользой потратить. Не ублажить себя, а понять что-то важное, расширить собственное понимание мира, героя, то есть другого человека. Ты живешь в этом мире, проникаешь в него, исследуешь. Я бы не хотел навязывать свою точку зрения зрителю. Твое исследование всегда субъективно, но оно не посягает на неприкосновенность авторского мира. Гоголь остается Гоголем, а Достоевский – Достоевским.
-- Да, согласна, навязывать не надо. Но при этом, мне кажется, что любое высказывание сегодня должно быть внятным. Все можно вынести в жизни, наверное. Кроме любых форм лжи. Определенности в высказывании, по-моему, не стоит бояться и не нужно избегать. Только бы не врать.
-- Для этого и нужен Лев Николаевич Мышкин. Он ничего не боится. И не врет. Он говорит не просто то, что думает, Он говорит и о том, что чувствует. Потому и нужен, и необходим.
-- Вы сами написали инсценировку романа. Вы вмешивались в текст Достоевского? Спрошу грубо, много ли у вас отсебятины?
-- Мало. Если провести исследование, то примерно девяносто процентов звучащего текста – Достоевский. Но роман – это же, как жизнь, которая непрерывна. И есть в ней эпизоды, происходящие «за кадром», автор их просто не прописал. Во втором акте, например, будет эпизод с минимумом слов, которого нет у Достоевского. Но нам он очень важен, и он возможен в логике общей истории. Этот эпизод касается взаимоотношений Настасьи Филипповны и Тоцкого, он необходим для того, чтобы помочь зрителю понять причину бесконечных ее мытарств между Мышкиным и Рогожиным. Настасья Филипповна в романе много говорит о своих снах, о сновидческой природе происходящего с ней. Мне кажется, что наша фантазия тут совсем не противоречит Достоевскому, а наглядно мотивирует некоторые моменты в поведении героини. Еще я позволяю себе некоторую вольность в объединении второстепенных персонажей, не противоречащих друг другу. Это связано с тем, что мне хочется, чтобы на сцене действовали не несколько артистов в маленьких ролях, а один – но в интересной и запоминающейся. Это моя проблема – мне жалко артистов, которые мало времени проводят на сцене, но много – на репетициях. Кстати, у Достоевского как-то попросили разрешения на инсценировку «Преступления и наказания». И в случае согласия – совета, как ее лучше сделать? Он ответил, что театр слишком сильно отличается от литературы, и он был бы рад, если бы автор инсценировки оставил один эпизод, а все остальное переписал – так честнее и по отношению к театру, и по отношению к роману. Жаль, что я слишком поздно прочитал это письмо.
-- Давайте поговорим о героинях романа, мы про них как будто совсем забыли.
-- Они у нас пока выходят сильнее мужчин. Не с точки зрения актерского мастерства, конечно, а с точки зрения мудрости и жизненной силы. Часто принято говорить, что автора нужно открывать определенным ключом – делай Островского через Чехова или что-то в этом роде. Так вот: нашим ключом к Достоевскому станет сериал Дэвида Линча «Твин Пикс». Там тоже закрытый городок, где всё и все перемешаны и не найдешь корней происходящего. Впервые я услышал об этой аллюзии в одной из лекций про Достоевского, показалось любопытным, я стал думать, а сейчас, в работе на репетициях, некоторые параллели становятся просто очевидными. Так вот, у Марка Фроста все женщины очень обаятельны, притягательны, свободолюбивы и самодостаточны. И у Достоевского они такие: что ни героиня – за ней очень интересный мир открывается. Не только Аглая и Настасья Филипповна интересны, но и все, все. Я надеюсь, что вы понимаете, что ничего конкретного от сериала «Твин Пикс» на сцене не увидите. Просто хочется поделиться с будущими зрителями одной из возможных ассоциаций, которую мы используем в работе. В процессе создания спектакля их возникает великое множество.
С Иваном Комаровым разговаривала Ольга Харитонова