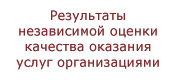Пресса
Андрей Казаков: А я не тоскую
Кажется, если актёр Саратовского академического театра драмы Андрей Казаков останется на сцене даже в полном одиночестве, народ в зале будет всё равно плакать и смеяться. Потому что у него какая-то совершенно сумасшедшая энергетика. Потому что он задействует в игру весь свой актёрский и человеческий ресурс — мимику, голос, жесты. Кажется, что даже его пот — это не водный раствор каких-то там органических веществ, выделяемых, как у всех людей, специальными желёзами, а некий актёрский (казаковский) инструмент, который он использует именно тогда, когда того требует роль.
— Андрей, если посмотреть репертуар театра, то ты едва ли не в каждом спектакле играешь.
— Есть такое дело.
— Но вот ни одного интервью с тобой я не нашла. Может, тебя журналисты побаиваются? Ну, драться начнёшь, как в «Сиротливом Западе», или в полицейский участок заберёшь, как в «Чуде Святого Антонио», или на интервью опоздаешь минут на сорок, как сегодня?
— Честное слово, полчаса на остановке простоял. А насчёт «побаиваются» — возможно, что и так. У нас был случай, когда после спектакля «Сиротливый Запад» я, Саша Кузьмин и Оля Милованова сидели в «LoveСуши». И вот юный поклонник Оли Миловановой, узнав об этом, решил выразить внимание любимой актрисе. Но когда увидел, что она с двумя братьями Коннор (герои пьесы Мак-Донаха и спектакля «Сиротливый Запад». — Прим. ред.), его как ветром сдуло. Страшно, наверное, когда рядом с тобой — два центнера. И которые только что на сцене «убивали друг друга».
— Ты вообще чертовски «плодовитый», если так можно о мужчине говорить. Актёрская «плодовитость», на твой взгляд, зависит от таланта самого артиста, его умения мозолить глаза, от позиции руководства театра или предпочтений режиссёра?
— От чего зависит — трудно сказать. Оценивать свой талант как минимум странно. Но как-то так складывается, что почти все приезжающие режиссёры предлагают мне роли в своих постановках. Хотя я не самый организованный человек по жизни.
— То есть не очень надёжная у тебя репутация?
— Понимаешь ли, я никогда не задумываюсь, какая у меня репутация в том или ином обществе. Когда сороконожку спросили, с какой ноги она ходит — левой или правой, она задумалась и не сделала ни шагу. Поэтому я чувствую себя свободным совершенно в любом обществе (знакомом, незнакомом) и ни под кого не подстраиваюсь. И либо меня «схавают» таким, какой я есть, либо я уйду.
— Не поняла, в драме тебя «схавали» или «не схавали»?
— Как не «схавали»? «Схавали»! Все любят меня, уважают. «Схавали» — не в смысле «сожрали», а в смысле приняли и полюбили.
— Любая твоя роль (даже самая маленькая) — это стопроцентное попадание в образ. Так как о тебе ничего не известно, можешь рассказать, «откуда ноги растут», как ты вдруг понял, решил, что ты — артист?
— Да я ничего не решал. Вырос в новом Комсомольском посёлке. От старой Комсы его отделяет только парк Гагарина. Мама у меня работает в психиатрической больнице, папа 25 лет оттарабанил в Заводском РОВД. Я был всегда бритоголовый, бил всё, что движется не в одном направлении со мной… Начало и середина девяностых — ну что тут говорить…
— Да можно поговорить. Я в те же самые времена дружила с неформалами, ходила в рваных джинсах и при фенечках.
— Вот если бы ты к нам со своими друзьями и фенечками приехала, хана вам была бы! В разных направлениях мы в те времена двигались. А потом, когда я учился в седьмом классе, в нашей школе нарисовался драмкружок, мне предложили главную роль. Я говорю: «Щас прям, ага!» Я же в авторитете был. Но объявили неделю театра, я посмотрел и понял, что это тоже какая-то власть. То есть ты выходишь на сцену, а куча народа в зале тебе внимает.
— Но это же не по-пацански?
— Да нет, конечно, вообще западло. Но!.. На следующий год я играл Журдена в «Мещанине во дворянстве», да ещё в розовых лосинах! Это был разрыв мозга! Будучи авторитетным пацаном, я в таком виде выхожу на сцену!
— Пацаны-то что сказали?
— А что пацаны? Я же в «авторитете»! Хотя, честно говоря, несколько раз меня побили. Но тем не менее, они мне завидовали. Кстати, ещё один парадокс: при всём моём тогдашнем имидже и стиле жизни я был отличником. Не прикладывал к этому никогда усилий, не делал домашних заданий, просто мне всё легко давалось.
В общем, в 9-м классе я играл Сирано де Бержерака. У меня был накладной нос, привезённый из тюза! В десятом мы заняли первое место по области среди школьных театров. После окончания занятий я уехал в деревню, куда ездил каждое лето. В начале июня за мной прибыл батя со словами: «Приходил Лёшка Тулупов, сказал, что вас приглашают в театральный институт». Я говорю: «Вы что, обалдели, а 11-й класс?»
Ну, в общем, вернулся в Саратов, как раз Ермакова набирала курс. Конечно, я не был готов к конкурсу, но с минимальными баллами поступил. Причём меня взяли не слушателем, а студентом. В школе я написал заявление, что буду заниматься на домашнем обучении. Будучи молодым балбесом, и в школе не учился, и театральный посещал как попало. После первого курса меня отчислили, несмотря на то что за актёрское мастерство у меня стояла пятёрка, но не было зачёта по классическому танцу и сценодвижению.
Отслужил в армии, поработал в охранке. И решил снова поступать в театральный. Легко и непринуждённо поступил на курс к Аредакову. Меня ещё помнили, педагоги останавливали: одумался, мол?
— На некоторых актёров смотришь и предполагаешь: ну, наверное, в жизни он такой-то человек. На тебя посмотришь — сложный механизм, непонятная конструкция. Хочется разломать и понять: а что внутри? Ты, когда утром просыпаешься, думаешь, например, что ты артист?
— Да никогда я об этом не думаю! Хотя, понятно, теорию сдавал, Станиславского изучал. Но я же рассказал про сороконожку. Это моя позиция. Буду долго думать над ролью (какой я должен быть, как мне сыграть в этой сцене), всё, конец, замру. Меня можно выкидывать.
— Но это твоя профессия?
— Моя, безусловно. До сих пор пытаю мать и отца: может, у нас родственники в седьмом колене были творческими людьми? Нет таких. Взять моего младшего брата, так его в семье зовут «Дед бубнилка». Мы с ним словно от разных родителей. Как небо и земля, даже, наверное, дальше. По характеру, по взглядам на жизнь.
— Ну и какие у тебя взгляды на эту жизнь?
— Живи как живётся. И не думай о завтра. А у брата на пять лет вперёд всё расписано.
— Девушки, надо полагать, в тебя такого влюбляются?
— Штабелями, конечно, не падают, но есть один нюанс. Несмотря на то что внешностью я не особенно вышел, мне хватает пятнадцати минут (большая душа, огромное сердце, немного ухаживания и несколько красивых слов), чтобы девушка проявила ко мне живейший интерес.
— Ты женат?
— Да ты что! Сорока ещё нет. Шучу, конечно. Не встретилась, наверное, та самая. Много хороших девчонок встречал, но не хочу ни с собой лукавить, ни их в заблуждение вводить. Думаю иногда: вот умная, красивая, хорошая девка, родит мне пару белобрысых казачков, но, понимаешь, если у меня в груди не горит, ну не могу я. А вдруг мне через несколько лет встретится та, которая душу перевернёт?
— И что, вот ни разу такой не было?
— Да была… Может, я однолюб, но свербело один раз. Сейчас вот позвонит — уеду к ней, хотя она нехорошо со мной поступила. А меня ведь предупреждали друзья. Но я открытый человек, сам не лукавлю и никого не подозреваю в подлости. Люблю всех.
— Подожди. Ты когда в школе морды бил, тоже людей любил?
— Нет. Я людей любить начал после Ермаковой. Театральный факультет меня абсолютно изменил. Понимаешь, я там один шестнадцатилетний был. Остальные — старше, некоторые даже лет на десять. А пиетет и уважуха к старшим была в меня вбита. К тому же меня, как самого маленького, холили и лелеяли. Помню, когда меня отчислили (причём параллельно я получил повестку в армию), у однокурсницы день рождения был. Собрались у неё, выпили. И тут мой курс начал планы строить, как завтра все пойдут к Ермаковой, Горюновой, да хоть куда, чтобы меня отбить! «Мы добьёмся, — кричат, — тебя оставят!» Это было настолько трогательно, что я заплакал. Я, из которого слезы не выдавишь, даже когда сильно бьют! А тут сидел и совершенно искренне плакал. Потому что они хотят идти за меня в огонь и воду.
— Родители гордятся, что ты актёр?
— А то! Мама у меня из деревни, где я каждое лето сено косил, картошку сажал, коров с дедом пас. И бабушка (батина мамка) оттуда. Поэтому их позиция всегда была следующая: пусть у детей будет то, чего у нас не было. Именно поэтому во втором классе меня отдали в музыкальную школу. Через год я её бросил. Ну не моё это! Батя (самбист) сказал: «Ша!» — и отправил меня в дзюдо. Оказалось, тоже не моё. Потом я боксом занимался, на соревнованиях побеждал. Но единственное, что меня по-настоящему зацепило, увлекло, — театр. Сцена, которую ты хотя бы один раз почувствовал, тебя уже не отпустит.
— Один из моих любимых спектаклей — «Сиротливый Запад», который поставил Антон Коваленко. Как-то я порекомендовала посмотреть его своим очень хорошим друзьям — интеллигентной, умной паре. После первого действия они ушли с ощущением «сердце не выдерживает». А вот играть — выдерживает?
— Я расскажу такую историю. Неважно, какой артист, неважно, в каком спектакле, фехтуя с соперником, проткнул его рапирой. За кулисы вышел со словами: «Ну надо же, как я сейчас эту сцену прочувствовал! Вот даже какой несчастный случай произошёл. Потому что я ролью жил!» Ботва! Это называется «непрофессионализм». Как бы артист ни погружался в роль, насколько глубоко бы её в себя ни впитывал, хотя бы малюсенький контрольчик должен оставаться. Потому что если Гриша Алексеев так вживётся в роль Раскольникова, что потеряет контроль, он Веру Григорьевну Феоктистову прямо на сцене и завалит. В этом и заключается наша профессия — в контроле. Помимо таланта, конечно.
— Московский критик Павел Руднев назвал героев Мак-Донаха социопатами, «которые ищут грани смерти». Тебе, например, подобные поиски знакомы?
— Ну надо же, двумя социопатами! Когда с нами общался, он такого не говорил. Он нас с Сашей Кузьминым назвал двумя розовощёкими крепышами. Это мне нравится больше.
— В «Городе ангелов» режиссёра Даниила Безносова путешествие в детство превращается в совершенно сумасшедший замес ада и рая, смеха и трагизма, беспросветности провинциального существования и надежды на то, что ангел спасёт, выведет. Как на таком маленьком сценическом пространстве всё это уместилось?
— Дословно не помню, но Товстоногов сказал, что на площадке тридцать шагов в длину, двадцать в глубину может происходить всё что угодно. Это может быть комната, степь, море, дворец, лачуга. Всё зависит от актёров и режиссёра. В нашем случае ещё и малая сцена огромную роль играет. На малой сцене, где хорошо видны мимика, каждый взгляд, даже нервный тик, врать нельзя. Это такая камерная атмосфера, в которой зритель сам ощущает себя участником действия.
— Неделю после «Города ангелов» мы семьёй хором пели Псоя Короленко «Хреново мне, братец, хреново,/ Уеду я в штатец Айова»…
— Хаа-ха-ха-ха-ха-ха!
— Ты в жизни как от тоски спасаешься?
— Да я не тоскую.
Елена Иванова
19 апреля 2011
Газета недели