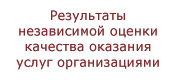Пресса
Антон Коваленко: «Иногда лучше быть Фердинандом Восьмым, чем жевать…»
Хорошо быть симпатичным молодым режиссером тридцати с гаком лет, умным, талантливым, эрудированным, иметь жену-красавицу и малютку-сына и жить в городе Санкт-Петербурге. Но Антону Коваленко всего этого счастья мало. Подавай ему театр, конфликт, Мак-Донаха с Гоголем. Осознанное, понимаешь, подавай безумие, чтоб за пределы обывательского сознания вырваться. Об этом, прямо скажем, неординарном процессе – спектакль «Записки сумасшедшего», который Антон поставил по мотивам одноименной повести Николая Васильевича на Малой сцене Театра драмы имени Слонова. О том, почему иногда лучше быть Фердинандом восьмым, чем служить в департаменте, и что общего между русским писателем Николаем Гоголем и нерусским, но тоже писателем Кеном Кизи, Антон Коваленко рассказал в интервью «Взгляду».
ОТ КЛАССИКИ ДО АБСУРДА
– Смелый вы парень, Антон, замахнулись на Гоголя нашего Николая…
– Я давно к нему подбирался. Диалог с Николаем Васильевичем не в ускоренном режиме происходил, а был медленным, долгим и последовательным. Я много читал, думал, пытался осмыслить, инсценировку к «Запискам» писал еще в школе-студии МХАТ. Так что эта история – она созрела, вызрела изнутри. И если «Сиротливый Запад» (предыдущая постановка Антона – Авт.) был на 70% экспериментом, то тут все было сознательно и продумывалось до мелочей. Хотя, конечно, многие вещи созревали в процессе, например, момент пространственного решения, который мы придумали с художником Николаем Слободяником. Сцена в форме круга – почти арена, что-то такое не совсем, может быть, привычное, уходящее отчасти в прошлое, к древнегреческому театру. Вот этот поворот был для меня очень важен.
– Мне кажется, поставить «Записки» – очень смелый ход. Во-первых, это Гоголь, что само по себе рискованно, во-вторых, не пьеса, а повесть, что для театра уже не сахар. И, в-третьих, вы взяли одну из самых сложных повестей, которая вся состоит из потока сознания психически больного человека. Видимо, вас что-то очень зацепило в ней? Что, если не секрет?
– Зацепило, да. Прежде всего, это самая яркая из петербургских повестей. А «Петербургские повести» – это, как известно, самый крупный, самый серьезный гоголевский цикл. И «Записки сумасшедшего» вобрали в себя элементы всех входящих в него повестей. Тот же «Нос», та же «Шинель», «Портрет» – все они на уровне потока сознания, и некие образы там присутствуют, только уже по-новому обыгрываются, преломляются в этой своей последней точке. Во-вторых, там есть сам автор со всеми своими противоречиями и стремлением к внутренней свободе. И, в-третьих, «Записки» были интересны мне с точки зрения исторической перспективы. Я уверен, что именно Гоголь стал родоначальником абсурда в мировой литературе. Его история безумия нашла свое отражение в самых ярких абсурдистских произведениях. Тут можно вспомнить и «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, и психоделическое движение в Америке, когда люди пытались вывести свое сознание за пределы этого привычного, обывательского мира. И «Пинк Флойд», который в нашем спектакле звучит совсем не случайно, потому что они тоже были в рядах этих революционеров, пытавшихся выйти за границы сознания. А началось все с Гоголя и его сознательного безумия…
БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ
– Сознательного по отношению к автору?
– Ну да. «Записки сумасшедшего» – они ведь написаны не сумасшедшим человеком. Если бы это были записки из дурдома в прямом смысле слова, то это была бы совсем другая песня. А Гоголь написал этот текст в здравом уме и твердой памяти – так, как никто не мог написать. Нужно быть либо на самом деле сумасшедшим, чтобы написать такое, либо гением. Поэтому я и говорю, что «Записки» – это гимн безумию, причем безумию сознательному.
– А что это вообще значит, сознательное безумие и для чего оно нужно?
– Это значит, что тот обывательский мирок, в котором мы привычно существуем и находим себе какие-то достаточно удобные роли, он ни в коем случае не привлекает ни моего героя, ни меня. Нужно быть достаточно безумным, подвергая себя критике настолько, чтобы делать шаги из этого обывательского мира. Такого притягательного, удобного, культурного, умного, красивого мира, в котором мы все с вами находимся. Возможно, спектакль потому и получился, что в нем была эта сверхзадача – прорваться из мира обывательского к миру духовной свободы. И мне очень хотелось, чтобы люди задумались о том, каким же образом этого можно достичь. Вытащить ли себя, как Мюнхгаузен, за волосы или что еще сделать, чтобы не погрязнуть в этом привычном мирке, где все удобно. Хотя это удобство тоже сложно достается. Чтобы просто был кусок хлеба, кружка чая, тоже нужно потрудиться. Но этого же мало, понимаете? Нужно же делать что-то еще. Жизнь ведь короткая штука, и Гоголь это понимал. И та психоделическая революция, которая произошла в 60-е годы, откуда возникли «Битлз», Кен Кизи со своим движением, тоже не-cпроста возникла. Не просто потому, что людям надоело, и они решили погламуриться, потусоваться по Америке. Нет, они погибали за эту свободу, они за нее боролись по-настоящему. Это тоже было сознательное безумие. Гоголь осуществил сознательное безумие в этих «Записках», чтобы прорваться, понимаете? И так же, как он вел своего героя, так и я вел своего актера к этому пьянящему ощущению свободы.
– Я, признаться, не думала в такой плоскости. Мне всегда казалось, что эта повесть скорее о конфликте между желаемым и действительным. Каждый из нас в той или иной степени живет в ситуации несбывшихся надежд. Но большинство находит в себе силы справляться с этим, а герой Гоголя не справился и сошел с ума. Может, из-за повышенных амбиций, может, просто сил не хватило…
– Это один из уровней, конечно. В этой плоскости написан сюжет. Это достаточно сознательный, не безумный уровень восприятия вещей, где есть человек и общество, и есть непонимание человека обществом. Здесь же огромное количество пластов в этой истории, говорить не переговорить. Можно говорить о неприятии, чуждости художника и общества, об их несопоставимости – то, что мы видим в «Портрете» и «Невском проспекте», где художник всегда одинок, и это всегда такое космическое одиночество. Можно говорить об отказе от своего мелкого «я», которое никому не нужно. Лучше быть Фердинандом Восьмым, чем самим собой – маленьким, несчастным, замученным человечком. Посмотрите, какая тенденция сейчас идет в Интернете, все эти ники, пароли, имена. Потому что очень хочется быть кем-то другим. Это тоже безумие, только оно в дозе определенной. Сейчас очень много таких фердинандов восьмых, как бы это сказать, уравновешенных, которые безумны, но в рамках. А во времена Гоголя в России так нельзя было существовать – настолько все было жестко. И если бы сейчас возникли такие же строгие законы, как тогда, при Гоголе, я думаю, что огромное количество людей попало бы в сумасшедшие дома, как в советские времена. И в этом есть и нехорошая сторона безумия – в том, что человек отказывается от своего «я». Это же очень трудно – быть самим собой. Хочется стать кем-то еще, чтобы тебя любили, носили на руках, чтобы все говорили, какой ты талантливый, умный. Хотя на самом деле, возможно, у тебя нет к этому никаких предпосылок...
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»
– Вообще, мне кажется, что герой не так уж безобиден, как мы привыкли считать. Это в школе нам говорили, что он такой несчастный и задавленный. На самом деле у него амбиции о-го-го…
– Ну как у нас у всех. И Фердинандом Восьмым он становится, уже оказавшись загнанным в угол, будучи практически на улице и занимая в реальности очень маленькую нишу. Да, это разговор о человеческом достоинстве, о том, что даже у самого последнего и несчастного, всеми забытого, никому не нужного человечка есть достоинство, если хотите – Бог или какая-то природа подлинная. И она проявляется, она бунтует. А если это сознание еще и больное, оно проявляется в виде Фердинанда Восьмого. И это мы виноваты в том, что он так себя назвал. Это не он придумал, это мы его заставили. «Безумием мнимым безумие мира обличаем…» Он как в зеркале показывает наше собственное положение вещей.
– Судя по тому, что вы говорите, вас интересуют примерно одни и те же темы…
– Если вы имеете в виду «Сиротливый Запад», то там мы погружаемся в безумие, а здесь оно является исходной точкой. Там человек гибнет, принимая решение хоть как-то воздействовать на людей, пусть путем откровенного самоубийства. Он не отказывается от себя, своего я. Наоборот. Он собой остается. То есть полностью противоположная ситуация. Другая сторона медали. Безумие, как и самоубийство, в нашем логическом упорядоченном мире в определенных, конечно, обстоятельствах, – это поступки, являющиеся протестом, проявлением человеческого достоинства.
– И все же, наверное, не стоит воспринимать это как рецепт, как образец для подражания…
– Ну попробуйте воспринять. Я думаю, это быстро отобьет охоту.
– Ничего не получится?
– Конечно.
– Почему?
– Потому что не каждый на это способен. Как не каждый может написать «Записки сумасшедшего», так же не каждый может сойти с ума. Сойти с ума может только тот, кто действительно любит, кто стремится к гармонии, кто остро чувствует несправедливость.
– И все-таки есть менее экстремальные способы примириться с действительностью, достичь свободы?
– Примириться, ради Бога, а вот чтобы достичь свободы, освобождения подлинного, есть только один способ – отказаться от желания, чтобы все было удобно, отказаться от себя по-настоящему. Чтобы заниматься другими людьми, жить для них и думать об их счастье, нужно отказаться от самого себя. А это уже экстремальная ситуация.
30 октября 2008
Оксана Федотова
Взгляд