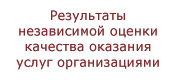Пресса
Выстрел
Опыт сравнения несравнимого
Режиссер Марина Глуховская применила в спектакле «Преступление и наказание» академического театра драмы имени И.А.Слонова «запрещенный» прием, сопроводив значительную часть действия бьющими по нервам самодостаточными музыкальными включениями. Жанр сценического воплощения романа в академдраме близок городскому романсу, сцена признания Раскольникова Соне начинается с его слов: «Любите ли вы уличное пение?», поэтому вопрос с художественным оправданием столь активного использования фрагментов из Козина, Петра Лещенко, Рубашкина или Сукачева вроде бы отпадает. Знаю, однако, что некоторых это музыкальное изобилие смущает и раздражает – они воспринимают его как род недоверия режиссера артистам и желание подменить подлинность их существования и воздействия на публику звучанием беспроигрышных номеров.
И, конечно, наиболее рискованной частью этого решения было предварить первый выход Свидригайлова и дальнейшие его появления самыми сильными и трагическими песенными монологами Владимира Высоцкого «Кони привередливые» и «Протопи ты мне баньку по-белому».
Высоцкий Свидригайлова играл. И это была его последняя театральная роль. В давнем, сугубо публицистическом по существу спектакле Таганки, сделанном скорее по Юрию Карякину (его авторская инсценировка проникнута пафосом книжки «Самообман Раскольникова»), чем по роману ФМ, Высоцкий отвечал за мучительное достоевское подполье и конченое, преступное племя тех, кто перешел заветную черту, за которой сплошная необратимость, невозможность возвращенья к человеческому облику. И еще – за воплощение темной стороны страсти и притягательности греха. Он и появлялся в спектакле Юрия Любимова со странной усмешкой на лице, смотрел исподлобья и произносил первую свою фразу – «моя специальность – женщины» - так, что, казалось, угрозу представлял сразу для всех действующих лиц, а не то что для Авдотьи Романовны или самого Раскольникова. Сомнений в том, что этот Свидригайлов жену свою собственноручно со света сжил, быть не могло. И в том, что это не единственный грех на его совести – тоже. Страсть к Дуне оставалась где-то в беззаконном прошлом, слово «любовь» звучало бы в его устах совершенно неуместно, да он его, кажется, и не произносил. Высоцкий играл буквальное «преступление и наказание» в едином обличье, будущее нераскаявшегося Раскольникова, опустошенного, приговорившего самого себя человека, а он умел играть гибельную обреченность как никто, и это умение гипнотизировало. Свидригайлова Таганки невозможно было бы отговорить от его «америки», он свое решение уже принял, он уже не жил, а растягивал момент конца, как растягивал его поручик Брусенцов из фильма «Служили два товарища». Когда в спектакле академдрамы под ревущий звук Высоцкого голоса появился стремительно вышагивающий и почему-то хромающий при этом человек с растрепанными светлыми волосами и захлебывающейся речью, явно не поспевающей за рвущимися наружу чувствами, едва справляясь с волнением, закурил и с места в карьер выложил Раскольникову как на духу свою историю и намерения, ощущение дежа вю накрыло мгновенно. Не то чтоб Виктор Мамонов на Высоцкого внешне походил, совсем нет. Что до остального, то думаю, он возможность даже отдаленного намека на исполнительскую манеру ВС не допускал. Тем не менее, некое глубинное сопряжение двух артистов, двух мужчин, разделенных тридцатью годами и восьмистами километрами, берусь утверждать. «Кони привередливые» словно вынесли Свидригайлова академдрамы на авансцену нового прочтения «Преступления и наказания», чтоб рассказать о человеке, который очень хотел удержаться на краю. Высоцкий играл погибшего, но свободного человека, хозяина своей собственной судьбы, Мамонов – живую душу, которая ему не принадлежит – ею владеет женщина, которую он любит. Чувство к Авдотье Романовне, конечно, не исчерпывает его существо до дна, там, как водится у Достоевского, дна никакого не видать, но определяет в этот момент и в жизни этого Свидригайлова всё. Не только потому, что на него делается последняя ставка, но и потому что оно взаимно. Вот если бы она просто не любила, кто знает, в какую бы сторону понесли его кони. Виктор Мамонов несет в этой роли и вечную неприкаянность, свойственную крупным натурам, и одиночество, на которое обрекает их сердечный ум, и умение увидеть и угадать в другом человеке знакомую невыносимую боль и незнакомую внутреннюю красоту. Но более всего, на мой взгляд, - присутствие совести. Именно ее наличие определяет в спектакле академдрамы пропасть между Раскольниковым и Свидригайловым. Даже если бы не изъяснялся наш герой здесь строками из Шекспира и Пушкина, все равно про то, чем приходится платить за «упоение в бою и бездны мрачной на краю» зритель бы догадался. В том числе и по интенсивности внутреннего ритма, в котором в полном соответствии с ритмами романа, существует на сцене этот персонаж Достоевского в исполнении Виктора Мамонова. И живой огонь, сглотнувший в момент статью Раскольникова, то есть следы пребывания у края этой самой бездны родного брата любимой женщины, воспринимается как отсвет сжигающего Свидригайлова внутреннего огня, от которого нет спасения, если нет ему применения.
Когда Авдотья Романовна, которую только что держал в объятьях, скажет про невозможность быть вместе, поспешно соберет разбросанные дамские вещи и скроется за дверью комнаты, где случилось их последнее свидание, он как будто обретет, наконец, долгожданный покой. «Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий». Присядет к столу, чтобы перевести дыхание и опрокинуть рюмку водки, накроет ее ладонью, когда Соня предложит еще - всё должно произойти в здравом уме и твердой памяти, даст ей денег, а последнему встречному – золотой портсигар, затянется горьким папиросным дымом, как следует русскому мужику перед дальней дорогой, и выстрелит в себя. Если вам повезет, то вы испытаете в этот момент боль. Она будет возвращаться всякий раз, когда вы будете вспоминать спектакль. Боль за всех троих.
Ольга Харитонова
№ 3 (9) Дирижабль, 2008